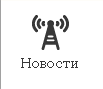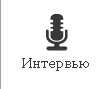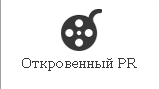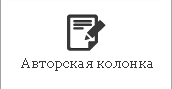|
Слухи, или «ходячие вести», как сказал бы В. И. Даль, являются относительно новым предметом профессионального анализа социологов и психологов (см. [2]). В этой статье делается одна из попыток разобраться в феномене слухов, маркировать некоторую «сетку координат» (культурные области, социальные сектора, ключевые понятия, и т. д.) для дальнейшего движения исследователя в изучении данного явления.
Задумываясь, о чем бывают слухи, обнаруживаешь, что обо всем. Тематически они охватывают весь значимый мир человека и общества: они вездесущи. Конечно, у слухов есть своя иерархия, свой «круг», свой индекс сенсационности.
Так что же такое обыкновенный слух — rumor vulgaris? Обыкновенный слух — это прежде всего «теневой» мир, своего рода «черный рынок» информации: ценность слуха и том. что он утаен, неофициален, передается «своим», а значит — о «чужих». Иначе говоря, это вести обо всем интересном чужом (или как бы чужом, в модусе отстранения от него — зелен, мол, виноград и т.н.) для своих. Тем самым слухи выполняют своеобразную роль в «стратификации» общества недифференцированном и неспециализированном сознании: мир привычно и устойчиво делится на «своих» и «чужих».
Для массового сознания чужие — это те, кто выше, в плане ли социальном (власть, начальство и т.п.) либо культурном («звезды», чужаки и др.). И, стало быть, мир слухов — это образы иерархии, спроецированные на экран «уравнительного» сознания. Впрочем, как уже отмечалось, возможно и переворачивание иерархии — самоопределение от противного: тогда предметом слуха становится «низший», вернее — демонстративно низвергаемый (козел отпущения и т.н.). Структура сознания при этом та же.
С разделением мира на «своих» и «чужих» связано и удвоение: наличие в очевидности «второго дна». Вот, дескать, оно каково на первый взгляд, а вот что на самом деле, — подразумевается во всех «историях» о явном и скрытом (отсюда — узел мотивов подмены, разыгрывания, переодевания).
Рискнем предположить, что и первое, и второе различение говорят об одном: стоит усмотреть в «чужом», каково оно «на самом деле», и вот оно становится «своим». Чаще всего этой операции сопутствует ценностное снижение: дескать, знаем мы их, все одинаковы, поскреби — и обнаружится! Что ж, как всегда при воспроизведении социальных и культурных барьеров, они должны быть труднопреодолимы, но все же проницаемы. Чуждое и далекое можно освоить и приблизить — от дружелюбного «понять» до неисправимо рабского, хотя и презрительного, «замазать».
Вообще говоря, возникновение слухов только и мыслимо при таких разделениях на близкое и дальнее, видимое и подлинное, — когда реальность не равна самой себе, «мир вышел из пазов», как сказал Гамлет. Иначе говоря, и сами массовые слухи, и питающая их среда, ментальность — симптом и продукт разлома стабильного общества и его перехода к иному состоянию. В глубокой истории это, например, «осевой прорыв из архаического общественного устройства (упомянем роль богини молвы и сплетни Оссы — латинской Fama — в античной мифологии и словесности от Гомера до Аристофана и Вергилия). Позднее можно вспомнить европейские XVII—XVIII век; когда в корне меняются механизмы регуляции поведения, и в «судьбу» начинает вмешиваться «случай», осознается роковая сила молвы, сплетни, клеветы — от «Отелло» до «Севильского цирюльника».
Для России это вторая половина XVIII— первая половина XIX веков, когда «случай» становится основой «репутации» (еще одно понятие, тесно связанное «толками»), в том числе дурной или разрушенной: вспомним классическую драму блестящей репутации, погубленной специально распространенным слухом — «Горе о ума» Грибоедова — или, в пародийном варианте — «Мертвые души» Гоголя. О роли слухов в мире Достоевского уже не говорим.
Наконец, это послереволюционная Россия, когда эхом социального взрыва по стране пошли волны слухов и сопровождающих их анекдотов, а позднее их дьявольские «черные тени» — доносы и направленные утечки информации, включая ложную. В разинформированном же (или даже дезинформированном) обществе, в условиях общественной стагнации и культурного безвременья любая информация фигурируя лишь в форме слуха — от подсудных известий о ленинском «завещании» и политически организованном голоде до глухих толков о катынских или ваганьковских жертвах и историй о том, «как брали Берию» или свергали Хрущева.
Важно, что единицами слуха (слухообразующими элементами, модулями) являются экстраординарные события и герои. Особость героя (она часто отмечает и окрашивает собой и изрядность события) определяется его статусом — явным или, скрытым и особыми способностями (опять-таки скрытыми или явными). Существенно само противопоставление явного и скрытого, игра слуха (и его инициатора, автора рассказчика) на этой двузначности.
Отсюда — важнейшая для слуха и его функционирования тема тайны и посвященности в нее, приобщения к ней (включая невротически-всеобщий источник или предмет самых зловещих слухов — «тайное общество»). Собственно, слух попросту с очевидностью концентрирует все основания «традиционной» власти (власти в обществе, отсылаемом к «традиции») — чудо, тайна, авторитет.
Узлом, на который завязаны герои и события или который они развязывают, является «проблема» — болевая точка, пункт наибольшего напряжения или слома общественной структуры (экономическая разруха, преемственность политической власти и появление новых элит, международные и межнациональные конфликты и т.д.).
Одна из разновидностей героя слуха (это может быть и образ его рассказчика) — жертва. Таким образом, складывается сюжет слуха: повествование об особом событии вокруг особого героя, развивающееся как нарушение нормы (или предвосхищение этого), вмешательство и восстановление ее. Может быть и «черный» вариант, своего рода микроантиутопия — преступление без наказания, мазохистское самобичевание и т.п.
Важно, кроме того, что между миром «чужих» и «своих» есть посредник — это «посвященный» (а потому — посвящающий других). Таков рассказчик слуха, который нередко дублирует свою персону (и укрепляет свой авторитет и надежность, значимость слуха) еще одной фигурой — свидетеля (родственника, знакомого, «одного парня» и т.п.). Эту обобщенную фигуру А. Шютц исследовал как «хорошо информированного гражданина».
Слово «гражданин» (горожанин) здесь не случайно. Действия, о которых рассказывают слухи, происходят в демонстративно «иной» среде. Один из образцов — сверхгород, метрополь Зиммеля, тот самый Питер, в котором лес рубят, а по деревням щепки летят. Этот чужой, заповедный — отталкивающий, опасный и влекущий — мир увиден глазами пригорода, слобожанином, жителем окраины, Вспомним характерные топосы, «университеты» той барачно-коммуналыюй культуры: КУХНЯ и скамейка у крыльца — для женщин, доминошный стол и голубятня на задворках — для мужчин, подвал, сарай и чердак — для детей.
В «перевернутом» варианте местом действия (например, таинственных и сверхординарных происшествий) может быть «дикая» деревня, глушь, но опять-таки в ее противопоставлении большому городу: на этот раз поучительная история рассказывается с его позиций.
В любом случае важно это противопоставление закрытого мирка и открытого мира, идентификация же рассказчика и слушателя может быть направлена к тому или другому полюсу. И чем более среда «закрыта», тем в большей мере жизнь в ней эмулируется слухами — включая, разумеется, наговоры, наветы, пересуды, доносы, поклеп и тому подобные феномены. Скрупулезный анализ распространения ложного слyxa о педагоге-соблазнителе в закрытом женском училище дал К. Юнг (вообще слухи — отменный материал для психоаналитика и психоисторика).
Поучительность (моральность) — фундаментальная, хотя не обязательно выпирающая, черта слуха как типа повествования. Это еще одно указание на среду его возникновения, его (внутреннего) рассказчика, он же (внутренний) адресат текста — коллективное, слабо дифференцированное сознание, контролирующее реальность и интегрирующее соответствующего типа сообщество подобными символическими средствами — поучительным известием о «запредельном» (в социальном плане). Это может быть и пропедевтическое предупреждение, устрашение, когда властитель обращается в совратителя, спасительница — в коварную интриганку и других немногочисленных персонажей этого теневого театра.
В таких своих качествах слух, во-первых, достаточно обобщен, внелокален (таков потенциал его воздействия, он ведь должен выйти за пределы мастного случая), чем противопоставлен, например, сплетне или ее официализированным вариантам — доносу, дезинформации. Во-вторых, он сохраняет привязку к времени и среде своего возникновения, чем противостоит байке или поверью. В-третьих, слух связан со свежей новостью, более того — часто лишь, предстоящим (это и есть его привязка к среде и эпохе; в качестве своеобразных городских «новостей» слух изучал Р. Парк) и этим противоположен легенде, анекдоту и т.п. В-четвертых, слух заведомо неофициален, часто — и антиофициален, противостоя этим собственно информации.
Вместе с тем, и в генезисе своем, и в условиях функционирования, внутренней структуре и формах потребления и передачи, слух, как нам кажется, сохраняет свою связь со всеми перечисленными типами социальных сообщений. Почему и сопоставление его с ними, по крайней мере на начальной стадии работы, эвристически вполне перспективно.
Для нас же, кроме всего прочего, слух интересен как праформа «общественного мнения». О молве и слухах как мнении общества заговорил, впрочем, уже Тит Ливий, сблизив оба употреблявшихся для этих устных феноменов латинских слова — fama и rumor. Мы видим в толках, помимо своеобразного историко-социологического материала, еще и макросоциологическую характеристику современных обществ определенного типа или определенных уровней их структуры, — там, где действуют обобщенно-анонимные силы опеки сверху и страшится и надеется зависимое, недифференцированное и малокомпетентное сознание снизу.
Эти отсеки неопатримониализма в общественных системах, движущихся к «современным» обществам и существующих уже в их окружении, облучении и т.д., отображаются в определенных, «традиционных» по форме феноменах массового сознания. Причем эти суждения и оценки — сами есть изнанка системы здешних массовых коммуникаций. В отличие от общественного мнения в строгом смысле слова, продукты работы массового сознания не откристаллизовываются в системе норм и жанров письменной культуры, они не обретают самостоятельной общественной силы и не откладываются и структурах соответствующих институтов (но могут быть особой стадией формирования общественных настроений, продуктом — иногда побочным — возникновения тех пли иных социальных образований, либо же — распада; содержание, структуру и адресацию слуха в этих противоположных случаях можно различать примерно так, как Маннгейм, скажем, различал утопию и идеологию).
Разумеется, в истоке слух — феномен групповой, даже кружковый и в этом смысле локальный. Отсюда — активность слухов в таких партикулярно организованых средах, как кружки и салоны, например, литературные, где они выступают фактором межгрупповой борьбы. Но в качестве обобщенного до анонимности слуха суждение или известие должно, покинув пределы «своих», быть авторизовано другими группами и обрести «символическое» измерение. Собственно, иначе слух не может стать поучительным и выполнить свою роль первоначального контролера над реальностью и регулятора поведения в сложно-устроенной социальной среде современного общества, города т.д., содействуя сплочению близких и отграничению от чуждых. Для всего этого нужно, чтобы слух, в ходе межгруппового отбора и обработки, достиг стилизованности и необходимой «всеобщности».
Важно, что это не всеобщность, скажем, категорий и процедур науки, норм права или других продуктов рационализации мира. По своему внутреннему устройству — это всеобщность «родового», «природного». В социальном смысле ей соответствует тот уровень общего и «основного» в общественном жизнеустройстве, где кончаются различения: социологическая «почва», «уровень моря». Тут действуют такие нерасчлененно-коллективистскне измерения, как «народ», «нация», «все как один» и т.п.
Скажем, в нашем случае популистски-уравнительному сознанию соответствует изолированное от внешней среды анонимно-унитаристское устройство общества, пронизанное единством власти — и ее источника, и механизма властеосуществления. Здесь, в условиях монополии на определения реальности, слухи выступают в роли информации. Но здесь же самые худшие из них, если воспользоваться выражением Бердяева об утопиях, «сбываются»: сегодня вряд ли можно вообразить слух, который так или иначе уже не воплотился бы в нашей кафкианскозиновьевской реальности. Поэтому, кстати, печатные источники информации как бы пристроены сегодня к системе слухов, живут на них (обстоятельство, среди тысяч других проницательно отмеченное сатириком Жванецким). В письмах в «Аргументы и факты» или «Вечернюю Москву» публика пишет: «слышала что...» или «говорят...», а журналисты ответственные лица или специалисты науки отвечают: «да, действительно» или «нет пока не подтверждается».
Добавим еще особую склонность нашего «протообщественного мнения» к морализму — всеобщий и достаточно жесткий контроль над лояльностью своих членов в форме «ты меня уважаешь?» Поэтому волеизъявление в форме слухов может конечно в определенных исторических ситуациях (по контрасту с иерархической стратификацией средневекового социума или на фоне тотальной подчиненности населения, мобилизованного командно-административной системой) нести известный гуманистический потенциал — напоминая о всеобщности «просто человеческого» (сравни ценностную нагрузку «смеховой культуры народа» в знаменитой книге Бахтина, написанной в конце 1930-х годов). Но переоценивать возможности подобной реакции не нужно. Слухи были и будут атрибутом любого общества поскольку ни одно общество (кроме утопического) не согласовано до абсолютного единства и всегда обладает особыми измерениями «здравого смысла» «неофициальной культуры» и т.п. И все же очевидно, что сфера действия этих систем тоже ограничена и отнюдь — вопреки заверениям или упованиям — не всеобща. Работать и исполнять свои функции они могут лишь в контексте целого и наряду с другими с другими (официальными!) социальными институтами.
Более того, рамки человеческого отношения, регулируемого миром слухов, и его критический потенциал достаточно узки. Органическое неприятие сложности, свойственное слухам, далеко от модуса существования в современном социуме с его многомерностью, трудностями выбора, грузом личной ответственности, пафосом индивидуального достижения, наличием специализированных групп и дифференцированных подсистем. В конце концов ментальность слухов — это упрощенный образ настоящего и будущего, отброшенный в плоскость прошлого. Периоды исторического застоя, которому обычно соответствует и особенно жесткая изоляция от внешнего мира, не только благоприятствуют расцвету слухов — от заговаривающих будущее до дразнящей чернухи, но и сами паразитируют на этой слуховой культуре. Официальная власть в такие времена, с одной стороны, сама провоцирует направленные толки (поклеп и т. д.), с другой же — с особой жестокостью карает за отклонение от централизованно-регулируемых информационных потоков. Достаточно напомнить формулировки печально знаменитой статьи 190. Закон Э. Дюркгейма — жестокость нормы ответственна за отклонения от нее — увы, исполняется. И задержка движения к гражданскому обществу (российский вариант развития в форме торможения) каждый раз стимулирует волнения популистской массы.
1. Campion-Vincet V. Complots et avertissi-ments: Legendes urbaines dans la ville // Revue francaise de sociologie. Paris, 1989. A. 30. N 1. P. 91 — 105.
2. Kapferer J.-N. Rumeurs, le plus vieux du mbnde. Paris, 1987.
3. Park R. E. News as a form of knowledge // Amer. J. of Sociol. 1940. V. 45. P. 669—689.
4. l;Schutz A. Well-informed citizen // Schutz A. Collected papers. V. 2.
© Б.В. Дубин, А.В. Толстых, 1992 г.
© Вопросы психологии, № 3, 1993 г.
http://ntsport.ru/
|